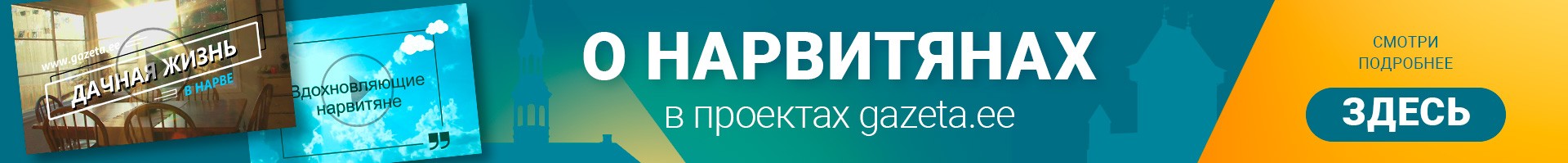У следователя
Наконец меня вызвали к следователю. По существу это был даже не допрос, а так, ни к чему не обязывающая беседа. Следователь ограничился несколькими малозначимыми вопросами, касавшимися моего пребывания в лагере. Спросил, по какой статье отбывал срок, когда освободился, где все это время жил и работал.
— Вот и все, что я хотел у вас спросить, — сказал он, — можете возвращаться в камеру.

— Я не выйду из кабинета, пока не узнаю, на каком основании был арестован, что я такого сделал, что меня упрятали в тюрьму. Вы что же собираетесь вторично судить меня по одному и тому же делу? Я отбыл положенный срок. За мое безупречное поведение и хорошую работу в лагере вышестоящие органы советской власти смогли освободить меня досрочно Получается, что меня освобождают досрочно для того, чтобы снова посадить за решетку?
— Рацевич, успокойтесь! За старое дело лишать вас свободы мы не собираемся. В практике советского правосудия таких случаев не было!
— Хочу этому верить, но, увы, никак не могу. Свое пребывание в тюрьме рассматриваю как судебную ошибку. Если это донос, познакомьте меня с материалами дела, я имею на это право. Я настаиваю на встрече с прокурором, который обязан предъявить обоснованное решение о моем аресте.
— Хорошо, встречу с прокурором мы вам организуем. Идите!
Через неделю меня снова привели в кабинет следователя. На этот раз за столом рядом с ним сидел моложавый мужчина в прокурорской форме.
— Рацевич, вы добивались встречи со мной, — сказал прокурор, — рассказывайте, что вас интересует, о чем хотите спросить?..
Все, что накопилось на сердце, что столько времени лишало сна и покоя, волновало и, конечно, страшно возмущало, я выложил прокурору, который внимательно слушал, не перебивая и не пытаясь возразить. Заканчивая свое обращение к нему, я просил конкретно высказаться, что является поводом снова лишать меня свободы.

Я закончил. В кабинете на какое-то время воцарилась тишина. Совершенно неожиданно прокурор повел беседу со следователем о какой-то статье, помещенной в «Правде». Наговорившись вволю, следователь достал из стола папку с моим делом и стал вслух читать. Я с огромным интересом слушал показания, которые давали сразу же после моего ареста И. Фаронов, М. Колесникова, Н. Амман. Их спрашивали, не занимался ли я антисоветской пропагандой, как относился к органам советской власти. Фаронов и Колесников давали точные, аргументированные ответы в мою пользу. Какие-то путанные, непонятные показания давал Амман. То ли он был напуган вызовом в МГБ, то ли не знал, как и что говорить. Было совершенно непонятно, с какой целью и зачем он стал рассказывать о моей поездке в деревни Причудья незадолго до ареста. Из протокола было непонятно, хотел ли он охарактеризовать мое выступление с отрицательной стороны или отвлекал внимание от прямого ответа на заданные вопросы.
Спустя восемь лет, когда я вторично вернулся в Нарву из ссылки, при встрече с Фароновым я узнал следующее. На второй день после моего ареста Фаронова вызвали на допрос. Следователя совершенно не интересовали успехи художественного коллектива, руководимого мной, которые описывал Фаронов. Всячески пытаясь сбить его с толку, следователь основное внимание уделял политической направленности моей деятельности: какую вел антисоветскую пропаганду, как часто восхвалял прежний буржуазный строй в Эстонии, как и когда встречался с буржуазными элементами и прежними своими друзьями. Когда Фаронов на все эти провокационные вопросы ответил отрицательно, следователь в полном разочаровании его отпустил, не забыв напомнить о секретности вызова и ответственности за ложные показания, если они выявятся….
Продолжая зачитывать документы, следователь перешел к актам обыска, оставленным вещам, что было сдано на хранение, что осталось в квартире. Это было уже неинтересно, и следователь закончил следующими словами:
— А теперь подпишите составленный протокол. Следствие по вашему делу закончено. Вот ручка.
— Как закончено, — в недоумении спросил я, — по-моему, оно и не начиналось. Первый раз вы вызвали меня, чтобы спросить фамилию, имя, отчество, год рождения, где и за что отбывал наказание. Вторичный мой визит был сегодня. Спрашивали не вы, а я, бесполезно пытаясь узнать, в чем состоит моя вина, на основании которой меня вторично арестовали. Какое же это следствие? Не мне вас учить, но предварительное следствие суть стадия уголовного процесса, в котором следователь собирает доказательства, для установления факта преступления и виновных лиц. На основании материалов предварительного следствия решается вопрос о предании суду. Но в данном случае нет никаких юридических оснований держать меня под стражей. Я ведь не опасен обществу ни физически, ни морально. На мне нет преступлений, влекущих за собой юридическую ответственность. Вся логика юриспруденции говорит о том, что меня следует немедленно освободить из тюрьмы.
Следовать с прокурором переглянулись, прокурор хмыкнул, подавая мне ручку, предварительно опущенную в чернильницу:
— Я буду, краток, а то чернила высохнут. Логика юриспруденции настолько темная вещь, что не нам с вами в этом разбираться. Поэтому вам пока придется остаться в тюрьме, подписать бумагу об окончании следствия и ждать решения своей дальнейшей участи.
Мне слишком хорошо были знакомы приемы работников следственных органов, применяемых в том случае, когда подследственный отказывается подписывать документ. И все же я осмелился высказать собственное суждение, сказав, что занесу его в протокол и только после этого подпишу. Следователь, рассвирепев, закричал на меня, какое я имею право диктовать свои условия, что я забываю, где нахожусь и кто я есть. Но вмешался прокурор. Очень спокойно он заметил:
— Пускай пишет, раз так настаивает!
А сам в душе вероятно подумал: «Чем бы дитя ни тешилось… Все равно от этой записи ничего не изменится, события пойдут своим чередом!»…
Потекли однообразные тюремные дни, как две капли воды похожие один на другой. Тепло кончилось, наступила осень. Меня никто не беспокоил, не вызывал на допросы, словно обо мне забыли. Ежедневно, не смотря ни на какую погоду, всей камерой выходили на двадцатиминутную прогулку. Разнообразие в монотонную жизнь вносил банный день.
В этот день, после подъема, надзиратель предупреждал, чтобы все были готовы к помывке. Иногда ждали два и более часа, когда за нами приходил надзиратель. Санобработка начиналась у парикмахера. Потом вели в предбанник. Снимали верхнюю одежду и сдавали её в прожарку. После этого ждали, когда кончит помывку предшествующая камера. На мытье давалось не более пятнадцати минут. Причем температуру воды регулировал надзиратель за стенкой, подававший то очень горячую, то холодную воду. Смена температуры душа сопровождалась громкими криками. При всем при том мы успевали не только помыться, но и простирнуть полотенце, носовой платок, носки и прочую мелочь из личного туалета. Один-два раза в месяц брали в стирку белье. Возвращали его неглаженным, часто недоставало сорочек, гимнастерок, которые ошибочно попадали в другие камеры. Все это приходилось долго искать.
На деньги, имевшиеся на лицевых счетах у заключенных, разрешалось выписывать продукты из тюремного ларька. Сперва это разрешалось раз в две-три недели, потом реже, а затем и вовсе прекратили, ссылаясь на то, что ларек закрылся на ремонт. При мне только один раз можно было выписать колбасу и масло. А вскоре не стало даже сахара и булок.
Зато, с каким нетерпением ожидались продуктовые посылки из дома! Из своего более чем скромного заработка Рая смогла выслать несколько посылок и отправить их через своих знакомых, ездивших в командировки в Таллинн. Огромным подспорьем в однообразной и малопитательной тюремной пище служили соленый шпик и репчатый лук, который я получал в посылках.
По издавна существующему в тюрьме порядку владелец посылки делился её содержимым со всеми находившимися в камере. Каждый получал хотя бы маленький кусочек рыбы, мяса, сала, что доставляло огромную радость всем жильцам камеры.
Руководствуясь строгими тюремными правилами, надзиратели запрещали иметь заключенным бумагу – писчую, оберточную, газетную, цветную и даже папку. Передавая заключенным посылки, они требовали незамедлительно освобождать продукты от бумаги. Их не интересовало и не беспокоило то, что некуда было пересыпать сахарный песок или сушеное молоко, что особые трудности возникали при освобождении масла от пергаментной бумаги…
Наша справка:
В 1940–1991 гг. Батареи как место тюремного заключения использовал в основном оккупационный режим Советского Союза. Рядом с уголовными преступниками там содержали и казнили и политических противников режима. Согласно оценкам, в общей сложности во время советской оккупации по политическим мотивам были посажены 45 000 граждан и жителей Эстонии.
Прочитать книгу в Интернете можно по адресу:
http://istina.russian-albion.com/ru/chto-est-istina–003-dekabr-2005-g/istoriya-4