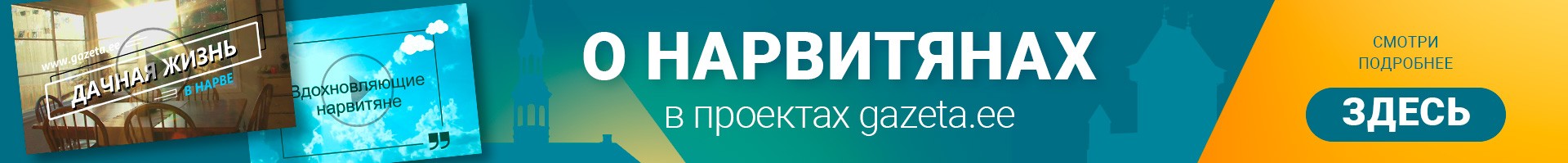Концерт центральной культбригады
Однажды, когда мы уже заканчивали складывать распиленные чураки, к нам, улыбаясь, подошел бригадир Петров. Он махал рукой, в которой белела какая-то бумажка.
— Могу вас обрадовать, товарищ Рацевич. Вот билет на концерт центральной культбригады, выступающей на нашей подкомандировке сегодня и завтра вечером. Пойдем вместе, у меня еще один билет.
Я поблагодарил бригадира, но от билета отказался. Я сказал:
— Не поймите меня превратно, это не каприз и не стремление показать, что я стою выше тех, кто выступает в культбригаде. Очень может быть, что среди них есть профессионалы достаточно высокого уровня, волею судьбы оказавшиеся в заключении. Поверьте, я в таком состоянии, что мне сейчас не до искусства. По возвращении с тяжелой физической работы я мечтаю только лишь о том, чтобы напихать в голодный желудок вечернюю пайку и как можно скорее лечь спать, чтобы утром со свежими силами снова зарабатывать свои 900 граммов хлеба. Надо бороться за жизнь, иначе наверняка погибнешь, как это произошло с сотнями эстонцев, бесславно распрощавшихся с этим миром. И еще добавлю. Мне стыдно, как работнику сцены, в таком виде явиться на концерт. Одеть костюм, который находится в камере хранения, не могу, чтобы не выглядеть, как на маскараде. Небритый, грязный, с копной давно нестриженых волос, я буду казаться окружающим, да и себе в первую очередь, «воробьем в павлиньих перьях». Спасибо за предложение, но лучше отложим посещение концерта до лучших времен.
Бригадир, забрав билет, ушел.
На следующий день в обеденный перерыв Петров подошел к костру и подробно рассказал обо всем виденном и слышанном на концерте. Ему концерт понравился. Он восторженно отзывался об эстрадном оркестре, говорил об успешном выступлении фокусника, танцевальной пары, исполнителя жанровых песен и конферансье.
— У меня есть заманчивое предложение, — тихонько, чтобы не услышал Кивисильд, обратился ко мне бригадир, — начинайте хлопотать о поступлении в центральную культбригаду, куда в первую очередь берут профессиональных деятелей искусств. Попав в нее, вы сразу же почувствуете родную обстановку, окунетесь в свой сценический мир и, что самое главное, станете в условиях заключения работать по своей специальности. По сравнению с другими заключенными, участники центральной культбригады пользуются огромными привилегиями. Они освобождены от необходимости трудиться на общих работах, их обеспечивают лучшим питанием, одеждой первого срока, для выступления им выдается обувь и соответствующая одежда. Живут они в отдельном бараке на пятом лагпункте, постоянно в разъездах по всем лагподразделениям Вятлага, многие имеют индивидуальные пропуска.
Слова бригадира крепко запали мне в душу. Мысленно я уже видел себя в составе культбригады, строил планы, как я буду выступать в качестве чтеца художественного слова, играть в скетчах и небольших пьесах. В лагере бытовала поговорка: «Каждый выживает, как может. Сегодня погибай ты, а уж я как-нибудь в другой раз». Жизнь заключенных насквозь была пропитана эгоизмом, каждый думал только о себе и своих интересах. Судьба соседа интересовала мало, а когда надо было жертвовать им или собой, вопроса о выборе не существовало.
Время шло. Я с нетерпением стал ждать приезда центральной культбригады на наш лагпункт, решив окончательно и бесповоротно приложить все силы, для того, чтобы попасть в нее.
Петров радовался за меня и чуть ли ни ежедневно ходил в КВЧ (культурно воспитательная часть), узнать, где гастролирует бригада и когда ее можно ожидать у нас.
Мартовское солнце предупреждало о приближении весны. В лесу, в заветрии, под защитой вековых елей становилось даже жарко работать. Ходили в одних гимнастерках, а иногда сбрасывали и их, оставаясь в одних майках.
Прохудившиеся валенки хлюпали в талой весенней воде. Однако каптер не спешил выдавать кожаную обувь и ставил непременным условием сперва вернуть валенки. А как отдавать валенки, если по утрам температура держалась в пределах 15-20 градусов мороза и только днем, когда солнце пригревало, ноги месили мокрый снег.
Червонец
Однажды, после ужина, когда я расположился на своих нарах и унесся мыслями в свою родную Нарву, до моего слуха донесся разговор, в котором упоминалась моя фамилия. Кто-то спрашивал дневального, где я нахожусь. Тот указал на мое место на нарах.
— Рацевич, поднимайтесь, вас вызывают в контору, — с этими словами обратившийся ко мне стал усиленно дергать за ногу.
Я быстро слез с нар. Поднявший меня пожилой эстонец, дневальный из конторы, доверительно сообщил мне, чтобы я явился за получением «червонца».
По дороге в контору мозг сверлила неотвязная мысль, — кто и откуда мог послать мне десять рублей. Сперва подумал про жену, но предположение сразу отпало: откуда она могла знать мой адрес и как с оккупированной немцами территории Эстонии можно было отправить перевод. А в России, не занятой фашистами, у меня вроде бы никого из родных не было. Так и не решив этот вопрос, дошел до конторы. В маленькой, насквозь пропитанной махорочным дымом конторке сидело четверо заключенных, склонившихся при свете небольшой керосиновой лампы над самодельными книгами-журналами. Они старательно что-то записывали и сверяли записи с тем, что значилось на разграфленных от руки листах серой оберточной бумаги. Конторскую тишину нарушали щелканье костяшек счет и треск горевших в круглой печке еловых поленьев. На мой приход никто не обратил внимания.
За первым столом сидел не то грузин, не то армянин в роговых очках, острой с проседью бородкой, одетый в замасленную телогрейку. На мой вопрос, где можно получить адресованный мне червонец, он с иронической улыбкой показал в сторону сидевшего у печки моложавого мужчины. На его открытых до локтей руках красовались типичные для лагерных блатарей наколки: сердце, пронзенное стрелой, женские имена и надписи типа: «Не забуду мать родную» и еще какие-то рисунки, которые уходили по рукам вверх и разглядеть их было невозможно. Подобные татуировки мне приходилось не раз наблюдать на груди и спинах заключенных. У одного я даже видел вязью написанную фразу: «Пусть будет проклят тот отныне и до века, кто думает тюрьмой исправить человека!».
— Фамилия, имя, отчество, год рождения, — скороговоркой спросил татуированный.
Я ответил. Спрашивавший достал из папки небольшой лист бумаги с напечатанным на машинке текстом, передал его мне, сказав:
— Прочитайте и в этой книге распишитесь. Документ вернете обратно.
Я расписался и, повернув листок ближе к свету, прочел: «Решением Особого совещания при НКВД в г. Москве 6 декабря 1941 года гражданин такой-то, год рождения такой-то, проживающий там-то и так далее… осужден по статье 58 пункт 10 и 11 УК РСФСР на 10 (десять) лет исправительно-трудовых лагерей. Подписи….»
Так вот о каком «червонце» говорил мне, хитро улыбаясь, эстонец. С невеселыми мыслями и в тяжелом настроении возвращался я в барак. Многое мне казалось диким и непонятным. Осудили три месяца назад и только теперь прислали решение. Почему, на каком основании судили заочно, не вызвав меня, не выслушав моих показаний, показаний свидетелей, сторон обвинения и защиты. Как так можно нарушать Советскую Конституцию, глава IХ которой обеспечивает право на защиту обвиняемому. Где эти демократические принципы социалистического правосудия, провозглашаемые той же Конституцией?
Всю ночь не сомкнул глаз. Возмущению не было предела. Мы, в понимании советской власти политические преступники, были бессильны в своих молчаливых протестах. А начни протестовать вслух, тебя ожидала судьба многих в лагере: новое следствие, обвинение в агитации и пропаганде против советской власти и новый срок заключения. Опять, со всеми подробностями, вспомнились приемы Шаховского в попытках признания вины и как он по окончании следствия заверил, что ничего страшного не будет, больше 3–5 лет не получу.
Утром Петров обратил внимание на мое удрученное состояние и стал расспрашивать, в чем дело.
— Спасибо за участие, — ответил я, — но ни вы и никто другой не в состоянии мне помочь. Вчера вечером узнал про свою судьбу. Ни за что, ни про что, не имея за собой никакой вины, мне предстоит десять лет скитаться по лагерям в кировской тайге и до 1951 года быть отрезанным от общества, семьи, без права иметь собственное суждение, постоянно слышать окрики и хамство охранников, нарядчиков и прочих «начальников», принудительно работать, без интереса и смысла. И если здесь нет правды и справедливости, то я буду искать их выше. В ближайшие же дни напишу протест на приговор Особого совещания прокурору СССР и в Президиум Верховного Совета СССР. Молчать не могу и не хочу.
— Потерпите немного, сейчас не время протестовать, — спокойно заговорил Петров, — сейчас война, мы временно терпим крупные неудачи на фронте, поэтому всем без исключения приходиться сосредоточить внимание на том, чтобы переломить хребет фашистскому зверю, а когда он будет уничтожен, в чем я не сомневаюсь, правительство займется другими вопросами, в том числе и заключенными, среди которых, верю, есть немало невиновных. Хорошо понимаю, что вам и таким, как вы безумно тяжело переживать нравственную боль заключения, но что поделаешь, на фронте во много раз тяжелее. Там безвинно проливают свою кровь миллионы защитников Родины…
В словах Петрова звучала теплота и ласка по отношению к невинно осужденным и невинно гибнущим. Я никогда раньше не чувствовал в нем столько искренности и сочувствия и потому верил, что говорил он то, что думал. Желая сделать мне приятное, Петров предложил пригласительный билет на концерт центральной культбригады.
— Развейте свои печали, обязательно сходите на концерт сегодня вечером, и у вас будет маленькая радость. Kак знать, может осуществится ваша мечта поступить в бригаду, смените лес на сцену…
Продолжение следует
Прочитать книгу в Интернете можно по адресу:
http://istina.russian-albion.com/ru/chto-est-istina–003-dekabr-2005-g/istoriya-4