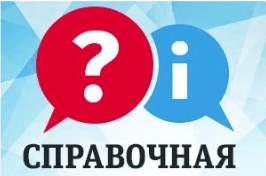фогта XIV века. Рисунок Й. Наха.
Арнольд Пауль Сювалеп. “История Нарвы. Датский и ливонский периоды”. Начало здесь.
К началу XV века разногласия между Нарвой и Таллинном зашли так далеко, что, как уже указывалось, в 1405 году нарвским купцам был закрыт доступ в торговый двор в Новгороде. Но это вряд ли могло послужить причиной открытого конфликта между двумя городами, поскольку Нарва была слишком слаба для открытого противостояния Таллинну. Все конфликты, возникавшие до 1417 года, по крайней мере официально были конфликтами между городом Таллинном и нарвским фогтом.
Так в 1414 году возник спор из-за груза с солью, принадлежавшего бургомистру Таллинна Герду Витте. В устье реки Нарвы его корабль сел на мель. Люди нарвского фогта спасли груз от затопления и за это по старому обычаю удержали третью часть груза. Таллинн остался этим недоволен. Фогт Нарвы, в свою очередь, утверждал, что если бы его люди не пришли на помощь, то груз с солью погиб полностью.
Конфликт закончился тем, что Витте от имени всех посещавших Нарву купцов заключил в 1415 году с нарвским фогтом Энгельбрехтом Креветом соглашение, по которому устанавливалось денежное вознаграждение за спасение тонувших товаров. Этот договор был утвержден магистром Ливонского ордена 24 февраля 1414 года.
Находясь в Нарве, Герд Витте заключил важное соглашение и с нарвским магистратом. Нарва намеревалась начать взимать с прибывающих кораблей в устье реки кораблей так называемый «свайный сбор» для пополнения своих доходов. С Витте тогда договорились, что устанавливать этот сбор будет Таллинн, конечно, при условии, если часть средств будет поступать в Нарву. Свое предложение Витте объяснил тем, что в случае, если сбор будет назначаться в Нарве, эту инициативу отнесут на счет Ордена и тогда русские могут начать, в свою очередь, облагать товары налогами, что в дальнейшем может привести к большим разногласиям. Нарвский магистрат согласился с этими доводами.
Таллиннские купцы, не принимавшие участия в нарвский торговле то ли из-за своей добросовестности и законопослушности, то ли из-за отсутствия необходимых связей, следили за происходящей торговлей в Нарве с чувством горькой зависти.
Крупный конфликт возник у Таллинна в 1417 году и на сей раз не с орденскими властями, а уже с городом Нарвой.
В 1416 году снова произошел спад в торговле с Русью. На этот раз причина крылась в том, что проданные русским ткани не соответствовали нужной длине. Разногласия из-за этого возникли уже в ноябре 1415 года. 17 января 1416 года Тарту по своей инициативе запретил торговлю с Новгородом. В феврале на съезде ливонских городов в Пярну к Тарту присоединились другие города, и поездки в Новгород и на Неву были запрещены. В Риге, Тарту, Таллинне и Нарве торговля с русскими оставалась свободной.
Положение усугублялось также сложными отношениями Ливонии со всеми своими соседями. Назревала война с Литвой и Польшей. Отношения с датским королем, которому были подчинены Швеция и Норвегия, были также враждебными. Литовский князь Витаутас, имея хорошие отношения с Москвой, подталкивал Новгород к войне. Существовал мирный договор с Псковом, но и его можно было расторгнуть. Положение на границе было настолько напряженным, что комтур Таллинна, который обычно возглавлял войска Ордена, уже 9 марта отправился в Васкнарву.
На Масленицу 3 марта к магистру Ливонского ордена явились новгородские послы и потребовали возмещения ущерба, причиненного в 1407 году их землям войсками Ордена во время войны Пскова с Орденом, а также серебро, конфискованное нарвским фогтом в 1409 году от новгородских извозчиков и т.д.
Иностранные города не были согласны с торговым запретом, установленным городами Ливонии. В апреле съезд городов в Копенгагене даже признал недействительным торговый запрет, установленный ливонскими городами. Съезд ганзейских городов, состоявшийся в мае в Любеке, снова потребовал аннулировать торговый запрет. Ливонские города остались все же при своем мнении. Все поездки посольств в Новгород не привели ни к каким результатам, и осенью там установили полный запрет на торговлю. Была запрещена торговля также с Псковом и Полоцком. На всех дорогах были выставлены приставы, которые следили за исполнением приказа.

Рисунок И. Наха.
К началу следующего года отношения еще более обострились. В Новгороде на рынках и улицах было объявлено, чтобы каждый житель готовился помочь князю в войне против немцев. В этой сложной обстановке нарвский фогт отправил в Новгород послов. Им, очевидно, удалось прояснить ситуацию настолько, что торговля в Нарве возобновилась. Можно все же полагать, что здесь она никогда и не прекращалась, и при посредничестве купцов из водской земли товары из устья Невы потихоньку попадали в Нарву. К началу 1417 года скрытая до тех пор торговля настолько оживилась, что это начало раздражать другие города. В Нарву прибыл целый ряд иногородних купцов, которые поселились здесь на долгое время и прижились. Наиболее известным среди них был Бернд Лемго, член таллиннской Большой гильдии, ранее оказавшийся неплатежеспособным и бежавший от преследования кредиторов в Швецию, а потом начал вести оживленную торговлю с Новгородом сначала через Выборг, а затем и Нарву.
Таллиннские купцы, не принимавшие участия в нарвский торговле то ли из-за своей добросовестности и законопослушности, то ли из-за отсутствия необходимых связей, следили за происходящей торговлей в Нарве с чувством горькой зависти. Один из таллиннских купцов Петер ван дер Вольме в апреле 1417 года в рижском магистрате выступил с предложением, чтобы Таллинн принял принудительные меры против тех, кто в нарушение запрета вел торговлю в Нарве.
Орденские власти в Нарве смотрели на торговлю снисходительно, т.к. в их интересах было, чтобы отношения с Русью не ухудшались. Нарвский магистрат, со своей стороны, пытался лояльно исполнять предписания Таллинна. В магистрате брали с купцов клятвенные обещания о том, что последние не будут нарушать торговый запрет. В Таллиннской книге штрафов есть упоминание о том, что некто Лютке Хинрик Эсскенссон был оштрафован за нарушение данной клятвы в Нарве, поскольку, несмотря на запрет и данную клятву, все же провез на Неву партию соли.
Чтобы затруднить торговлю через Нарву, таллиннский магистрат начал затруднять провоз товаров в Нарву. Летом 1417 года вопрос о нарвской торговле рассматривался на съезде ганзейских городов в Любеке и Ростоке, где было решено написать властям Нарвы и Турку, а также фогту Выборга по поводу Бернда Лемго, торговавшего вопреки запрету с русскими. Также было решено написать и самому Лемго. На том же съезде было решено ограничить торговлю голландцев в Ливонии.
Политическое положение продолжало оставаться напряженным. Существует даже сообщение о том, что Новгород заложил крепость на реке Нарве. Он также полностью закрыл въезд немецким купцам в свои земли.
Уже на съезде 24 января 1417 года города обратились к орденским властям с просьбой присоединиться к запрету на торговлю с русскими, и чтобы магистр Ордена запретил также вывоз зерна из Ливонии. Теперь, когда объем нарвской торговли значительно увеличился, Таллинн официально обратился как к Нарве, так и к фогту Нарвы с требованием прекратить торговлю с русскими, в особенности, чтобы соль не уходила в русские земли. Таллинн предупредил также Нарву о том, что в отношении всех, кто продолжит торговлю с русскими, по приезде их в Таллинн будут применены меры принуждения.
Нарвский магистрат посоветовался с фогтом Нарвы и незамедлительно проинформировал o делах магистра Ордена. По-видимому, совместно с орденскими властями был выработан план ответа таллиннскому магистрату. 7 июля 1417 года Нарва заверила, что соль из Нарвы в русские земли не вывозилась, однако нарвские рыбаки, побывавшие в устье Невы, видели, что туда приходили корабли из Данцига с грузом соли и сельди. Нарвитяне подчеркнули, что в случае, если нарвским купцам будут предоставлены в торговом дворе Новгорода такие же права, что имеются у других ганзейских городов, то Нарва, конечно, будет выполнять все требования, предъявляемые ей ганзейскими городами. В том же духе ответил и фогт Ордена: нарвское купечество лишено возможности пользоваться правами ганзейских купцов, и потому торговля в Нарве ведется на основе отдельных соглашений. Фогт по этой причине не считает справедливым препятствовать торговле в Нарве. Если Таллинн с этим не согласен, то он может обратиться с жалобой к магистру Ливонского ордена и тогда Нарва подчинится его решению.
Однако магистр Ордена также поддержал политику Нарвы. 18 июля 1417 года он сообщил Таллинну, что, по его мнению, Нарва могла бы прислушиваться к указаниям ганзейских городов только в том случае, если у её бюргеров будут такие же права, как и у ганзейских купцов. В настоящий момент не следует препятствовать жителям Нарвы пользоваться их правами и свободами.
Таллинну самостоятельность Нарвы, естественно, не нравилась. Вероятно, этот вопрос обсуждался на съезде городов в Тарту 1 августа и, наверное, с ведома съезда Таллинн принял новое постановление: запретить жителям Нарвы закупку товаров в городах Ганзы, у тех же, кто все-таки решится появиться в этих городах, следовало конфисковать деньги и товар.
Таллинн начал сурово наказывать всех, кто торговал через Нарву.
Конфликт между Нарвой и Таллинном приобрел очень острый характер.
(Продолжение следует)